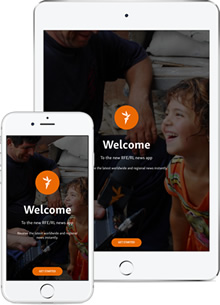Забрел я недавно в районную библиотеку — посмотреть, нет ли чего русского поновее (русское теперь в Нью-Йорке — в любом месте). Ничего вроде бы не нашел, но увидел старую знакомую — книгу Айрис Мердок «Отрубленная голова» в русском переводе. Это чуть ли не первая книга, которую я прочел в Америке по-английски. Откуда такой пыл?
В середине 60-х был издан в Москве первый роман Мердок «Под сетью», сочинение пленительнейшее, от которого все сошли с ума. Со временем выяснилось, что ничего лучшего она и не написала, все ее последующие двадцать семь романов не идут в сравнение с этим. Айрис Мердок осталась автором первой книги. Конечно, она умелый писатель, можно даже сказать, мастер, но кто-то правильно сказал, что ее книги какие-то противные. До отъезда я, помнится, прочитал ее «Алое и зеленое» - исторический роман о Пасхальном восстании в Ирландии: ни то ни се, а следующая советская публикация — «Черный принц» вызвала некоторое недоумение (это как раз из «противных»). Но я еще в совке знал, что есть у нее нашумевший роман «Отрубленная голова»; очень хотелось ознакомиться. И Мэрдок после «Сети» полюбил, и к тому же, будучи самодеятельным фрейдистом, знал, что такое в символике бессознательного отрубленная голова. Оказалось, у Мердок совсем не то: не из Фрейда, а из японской мифологии. В оригинале мне книга резко не понравилась, даже возмутила: и не инцестуозной тематикой, а тем, что психоаналитик сожительствует с пациенткой, что, как я знал, совершенно непозволительно в психоанализе. А на Западе, думал я сразу по приезде, всё должно быть правильно.
В общем, взял да из ностальгии и перечитал сейчас «Отрубленную голову». Возмущаться, конечно, нечем. Это не тяжелая драма, а сексуальный фарс: главный, едва ли не господствующий жанр у Мердок. «Под сетью», кстати сказать, тот же самый сексуальный фарс, только не такой откровенный, затуманенный неким приятным романтизмом. Да, в сущности, и тема у Мердок одна: свальный грех. Но как жанровое определение Мердок склоняет ее перевести в более легкий род (даже не к Уайльду, а к Ноэлу Хоуарду), так тематика, правильно понятая, делает ее весьма философичной.
Кстати, философичности Мердок удивляться не следует: она ведь была профессиональным философом, всю жизнь преподавала в Оксфорде. И что еще важней: была знатоком Сартра, написала о нем книгу «Рационалист-романтик». Мы увидим еще, почему тут важен Сартр.
В самом деле, посмотрим на «Отрубленную голову»: кто там с кем и как. Важно уже то, что все персонажи вовлечены в секс, сюжетная сетка вещи — сексуальная сеть. Это вроде многосторонних фигур в коллективных сеансах де Сада. Герой книги Мартин имеет любовницу Джорджи, а его жена Антония становится любовницей друга семьи (вот этого самого психоаналитика) Палмера Андерсена, при этом Антония всю жизнь, оказывается, была любовницей мужнина брата Александра и даже была уверена, что муж знает, а брат Мартина Александр становится любовником его любовницы Джорджи, а Палмер в конце романа уезжает с этой Джорджи в Америку, а Мартин страстно влюбляется в сестру Палмера Гонорию Кляйн, которая любовница собственного брата психоаналитика Палмера. Впрочем, они не родные, а сводные, получается вроде Байрона с его Августой (по-американски Агу́стой).
Гонория Кляйн (потому и Кляйн, что сводная, ее отец-немец не тот, что у Палмера), женщина ученая, преподающая, однако, не в Оксфорде, а в Кембридже, в конце книги приводит объясняющую мифологему:
«Вы когда-нибудь читали Геродота? Вы помните историю Гигеса и Кандавла?
Я задумался и ответил:
- Да, думаю, что да. Кандавл гордился красотой своей жены и захотел, чтобы его друг Гигес увидел ее обнаженной. Он оставил Гигеса в спальне, но жена Кандавла догадалась, что он там. А позднее, зная, что он видел ее, явилась к нему и вынудила его убить Кандавла и самому стать царем».
Я на этом Кандавле, можно сказать, зубы съел. Каюсь: впервые прочитал о нем не у Геродота и даже не у Фрейда, а у Андре Жида, есть у него на эту тему аллегорическая пьеска. Учитель же объяснил, что этот сюжет есть образцовая иллюстрация к явлению латентного гомосексуализма: стремление поделиться возлюбленной с другом означает, что вы испытываете сексуальное влечение к этому другу едва ли не большее, чем к возлюбленной. Вы бы хотели любить ее вместе, втроем участвовать в акте, то есть, как бы выйти в сексе за гендерные рамки. Секс, либидо — более широкое явление, чем пол, сильнейшее доказательство чего — как раз феномен гомосексуализма.
В связи с этим невозможно не вспомнить еще одного писателя, поважнее Айрис Мердок: Достоевского. Мотив Кандавла пронизывает почти все его сочинения. Самое раннее (и какое выразительное!) появление — в рассказе «Слабое сердце». А вспомните «Униженных и оскорбленных»: как рассказчик, влюбленный в Наташу, только то и делает, что помогает ее роману с молодым князем Алешей. Есть у Достоевского вещь, написанная специально на эту тему: «Вечный муж». Много чего еще в этой связи о Достоевском сказать можно. Я и сказал: написал статью «Девочки и мальчики Достоевского»; российским издателям даже и предлагать не стал: напечатал в Израиле в журнале «Нота Бене».
И чтобы на этом покончить с Айрис Мердок, упомяну, что в «Отрубленной голове» есть только один персонаж, не вовлеченный в эту групповуху: сестра Мартина и Александра Розмери. Но это, должно быть, потому, что Мердок для себя ее оставила.
Такие хитрые, не заметные читателю штучки любил делать Набоков, но умел не он один.
Конечно, Айрис Мердок не Достоевский, но она и не французский водевилист эпохи Второй империи, какой-нибудь Лабиш или Фейдо. Мердок философична. Какова же философема ее групповух?
Тут и надо Сартра вспомнить, вообще экзистенциализм. Это персоналистическая философия — не субъективистская, не «субъективный идеализм», как штамповали большевики, а персонализм. По-новому понимается философия: она не должна строиться по модели науки, не должна быть предметной, коли хочет философствовать о человеке. Человека нельзя делать предметом, нельзя его овеществлять, «отчуждать» нельзя, коли говорить торжественней. Нельзя его свести к набору основных характеристик, к сущности: человек — не сущность, а существование (отсюда самый термин: экзистенция — существование). Существо, обладающее сознанием, устойчивыми характеристиками, сущностью, раз навсегда данной, не обладает. Человек не равен самому себе, не совпадает с собой. Пока он жив, о нем нельзя сказать окончательной правды, к нему не приложим закон тождества — А равно А. Вы думаете о человеке, что он А, а он возьмет и сделается на пять минут каким-нибудь Ъ-ером, причем самые важные пять минут, когда его судьба решается. То есть он хозяин своей судьбы, он свободен . Поэтому говорят: существование предшествует сущности. Чтоб это по-настоящему усвоить, не надо, кстати, и Сартра читать — достаточно книгу Бахтина о Достоевском: вся эта полифония, критика монологического сознания, диалог — чистой воды экзистенциализм.
Но вот что нужно в первую очередь знать свободному человеку — то, что он сам действительно в первую голову понимает, с чем начинает жить: человек конечен, смертен, и это у него, в нем — не природная случайность, а фундаментальная характеристика. Строго говоря, только для человека смерть является такой характеристикой, потому что он ее, в отличие от животных, сознает. И никакое включение ни в какую, даже широчайшую и сильнейшую систему сверхличных отношений от этого сознания отвлечь его не может. Почему человек гуляет или даже упорно работает? Чтобы не думать о смерти. О конечности своей забыть. Вот почему люди так легко самоотчуждаются во всякого рода системах — хоть в охотничьих клубах, хоть в строительстве коммунизма. Бытие эмпирически конкретного человека — «дазайн» — это «бытие-к-смерти».
Опять-таки Сартра или Хейдеггера цитировать не будем, а вот мне попалось подходящее к случаю высказывание в записях Л.Я.Гинзбург:
«Бердяев. Перечитываю автобиографию. Ведущая мысль — индивидуализм, философский персонализм. Раскаленный протест против всего его ограничивающего, — откуда бы оно ни исходило, даже от Бога. Но суть в том, что это индивидуализм религиозного сознания, то есть заведомо обеспеченного ценностями и смыслами. И в мире ценностей оно ведет себя непринужденно.
А безверию — где ему найти аксиологическую непреложность?»
«Аксиологический» — значит ценностный, относящийся к ценности. Понятно, что религиозный, точнее, верующий человек обладает дорогими ему ценностями. Вера его не нуждается в доказательствах: верую, ибо абсурдно. При этом Бог не нуждается ни в чьей компании, кроме верующего человека. Даже церковь, в сущности, не нужна, или, как скажут протестанты, особенно не нужна. Другими словами, свободный человек оказывается в одиночестве, в экзистенциальном одиночестве, и если он не верующий — начинает искать всякого рода субституты, это одиночество преодолевающие: идеологию, партию, баб и водку, любимое дело, наконец, — как Лев Толстой. А то, что Лев Толстой в расцвете таланты, славы, здоровья и счастья, хотел повеситься, — вот это и есть подлинная экзистенциальная ситуация.
Что касается Сартра, то он как раз любил водку и баб, то и другое потреблял в количествах непомерных. Он и умер, можно сказать, от водки. Он к старости ослеп, из дому не выходил, и была у него в последний день какая-то неопытная ассистентка, не знавшая, что мэтру радикально запрещено пить. Послал дурочку за водкой да бутылку в один присест и выпил. Правда, в семьдесят пять лет и помереть не стыдно.
Но водка и прекрасный пол — меньшее из зол. Сартр по-другому пытался не замечать горизонт смерти (экзистенциалистское словечко). Он искал осмысленной исторической общности — и движения вместе с ней в некое человечное, очеловечественное будущее. Не будем в связи с этим вспоминать марксизм, который, кстати, не так и плох, как нам в свое время подносили. Не будем толковать о содержательных моментах: нам важны моменты формальные, структурные. Именно человек, предельно остро осознавший человеческое одиночество в мире — космическое, бытийное одиночество — ищет общности; как сказал Эренбург об Андре Жиде: погреться у чужого костра. Кстати, точно то же сказал еще до революции Бердяев о Мережковском и Гиппиус. Да и сам Бердяев такой костер искал: он ведь не просто был верующий, но еще и социалист; социализм в таком контексте — не социальная программа, а просто общность, коммюнотарность, как говорил Бердяев же. А Хайдеггер — тот вообще к нацистам пошел: нация ведь действительно общность, причем, что называется, органическая.
Но, повторяю, здесь важен структурный момент, а не то или иное идеологическое содержание. Тогда оказывается едва ли не законом: человек экзистенциального склада мышления неизбежно тяготеет к Всеобщему, к тоталитету.
Чистое, вне идеологических мотивировок сочетание двух этих полюсов этой структуры мы находим опять же у Бахтина, автора экзистенциального трактата о Достоевском. Второй этот полюс у него — книга о Рабле с ее концепцией гротескного, или родового, коллективного тела.
Процитировать в подтверждение можно чуть ли не всю эту книгу. Ограничимся следующим:
«Гротескное тело <…> — становящееся тело. Оно никогда не готово, не завершено: оно всегда строится, творится, и само строит и творит другое тело; кроме того, тело это поглощает мир, и само поглощается миром <…> тема родового тела сливается у Рабле с темой и живым ощущением исторического бессмертного народа <…> живое ощущение народом своего коллективного исторического бессмертия составляет самое ядро всей системы народно-праздничных образов».
У родового тела нет самосознания, потому что нет индивидуальности. Мораль тут такая: если боишься бездны — прыгни в нее. Это не призыв к самоубийству, но соблазн потери собственной тяготящей личности, и чем выше личность, тем сильнее соблазн. Пушкин тоже об этом писал: есть упоение бездны мрачной на краю. И — тайная мысль: а вдруг там еще интересней? Как платоновский рыбак: хочу в смерти пожить.
Такова философема Кандавла, если вы о нем еще не забыли. Я-то не забыл, но хуже: не помню имени его жены.